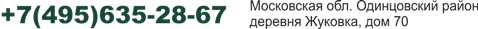Изобразительное искусство XX века глазами среднего обывателя
Рассуждать об искусстве – задача необъятная. Столько веков, столько гениев и мастеров, столько традиций и школ! И даже если ограничиться только историей искусства XX века, то мы обречены провести годы в изучении всех значимых персон, обстоятельств, тенденций, произведений искусства и их критических оценок, что рядовому обывателю не кажется возможным и необходимым.
Возникает вопрос: «А рядовому ли обывателю об этом судить?»
Могу предположить здесь несколько абзацев красноречивого дидактического текста о том, что искусство должно возвышать, а не снисходить. И если кто-то не понимает транслируемый автором посыл, то это его – непонимающего – личная беда. Надо непременно повышать свой общий культу уровень…
Оспаривать такую позицию не стану.
И все же человеческое сообщество – единый организм, и невосприимчивость каждого отдельного человека определяет «состав крови» всего социума. Если конкретный Сергей Иванович или баба Шура не понимают смысл и назначение «Фонтана» Дюшана (а это выставленный на всеобщее обозрение в нью-йорской галерее в 1917 году (!) обычный писсуар с подписью автора), то, скорее всего, мгновенной социальной революции по этому поводу не произойдет. Однако уровень непонимающих в какой-то момент истории может превысить порог планетарной нечувствительности, и вот тогда забурлят неостановимые общественные процессы сомнительной знаковости… Кто знает, какая именно баба Шура окажется критической?..
Вспомним Достоевского, который говорил о влиянии поступка отдельного человека на все земное равновесие: «Каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех людей и за все».
Именно по этой причине я и предлагаю сузить тему нашего обсуждения и посмотреть на изобразительное искусство XX века с точки зрения современного среднего обывателя, то есть фактически с моей точки зрения – глазами молодой женщины, живущей в большом городе, занимающей средний пост в средней организации, жены и матери двух детей, не лишенной интереса к происходящему вокруг, продолжающей учиться, немного путешествующей по миру, знакомой с некими простыми концепциями искусства и иногда предающейся «чувству прекрасного».
Вот мои непосредственные впечатления от посещения музея современного искусства Королевы Софии в Мадриде – для полного погружения в тему.
Пасмурный мадридский март. Прячемся от ветра и дождя. Начинаем каждый день наших каникул походом в музей.
Начали с музея Прадо. Бродили по залам с великими голландцами, всматривались в удивительные фантазии Босха, отходили на пару метров назад, чтобы объять все цветовое северное сияние Эль Греко… За окнами непрерывно шелестел дождь. Но мы как будто вышли из грустной клетки дождливого дня – наши глаза видели такую разную и роскошную жизнь, что почти пресытились красками и образами. И сердце радовалось так, как это бывает, когда смотришь на цветущий шиповник или замечаешь в густом травяном строю маленькую ладошку голубой незабудки… Так бывает, когда смотришь на прекрасное творение – Божье ли, человеческое…
Сегодня – музей Королевы Софии, современное искусство.
Безликое здание с приставленными стеклянными прямоугольниками лифтовых шахт. Но сердце все же замирает – там, в этой серой шкатулке, спрятаны удивительные сокровища! Быстро минуем кассы, гардероб, преодолеваем длинный пустой коридор с огромными окнами, заходим в первый зал.
Моя щенячья готовность радоваться замирает…
Нечитаемый мной унылый абстракционизм, кубизм, додаизм. Пессимистические краски. Второй, третий, четвертый зал. Много инсталляций. Много фотографий. И очень много какого-то… подросткового жесткого бунта. Как будто специально шокируют, бьют в самое больное, имеют право не жалеть… сами обижены – обижают в ответ…
Зло обнаженная натура. Ракурсы, открывающие уродство. Серое на коричневом с тускло-синим… Мне нехорошо. Порываюсь выбраться наружу. Я вступила в диалог, и он мне неприятен – имею право его прервать. Но мой муж настаивает на выполнении обязательной программы. Хорошо. Я попытаюсь.
Подходим к культовой «Гернике» Пикассо. Впечатляет? Наверное. Все же это довольно большая картина. Хотя бы масштабами… Нравится? Нет. Слушаю рассказ гида. Бомбардировка города Герники… более тысячи убитых… пламя огня… боль… Вот лошадь, проткнутая насквозь. Вот женщина с мертвым ребенком. И везде – черно-белый ужас угловатой смерти.
Впечатляет? Да. Нравится? Нет. Понимаю? Да! Да, я понимаю, как боль меняет цвета и образы. Я понимаю, во что превращается человек, лошадь, дерево, дом, когда исчезает жизнь! Я понимаю этот ужас…
Смиренно бреду дальше – из зала в зал смотреть чужими глазами на страдающий мир… Большие во всю стену, маленькие как почтовые открытки, длинные – растянутые на весь зал рисунки… картины… инсталляции… Редкие старые знакомцы – Дали, Миро, Шагал… Радуюсь им.
В комнатке на каком-то верхнем этаже рядом с картинами проецируется на белую стену документальная хроника. Муж предлагает присесть и посмотреть. Да, конечно.
Через минуту-другую становится очевидным, что это съемки концентрационных лагерей. Люди как… как живые поломанные куклы… изможденные… лишенные пола…
Обривание голов перед газовой камерой. Из этих волос потом что-то плетут на фабрике… Глаза того, кого стригут и кому сейчас надо шагнуть в эту газовую коробку… Взгляд отрешенный… измученный… скорее внутрь или куда-то еще, чем на этот мир… Идет, падает. Другой пытается поднять.
Следующий кадр – массовая гильотина. Люди просто свалены как по линейке… Поднимается-опускается нож… катятся головы…
А дети! На детей смотреть невозможно! Это просто не-воз-мож-но… никаких описательных слов для этого нет… это обжигает сердце, сжигает его в три секунды, и в груди остается серый остывающий пепел… как от сгоревшего листа газеты… и жизни в нем больше нет…
Я плачу. Слезы капают мне на руки. От боли не могу пошевелиться… встать.. уйти…
Как можно жить дальше, когда человек – одной с тобой породы человек! – делает ТАКОЕ … с человеком??!
Как можно верить? На что надеяться? Осмеливаться любить?
Как можно рисовать идиллические пейзажи, милые портреты, ангелоподобных младенцев?… Рисовать голубым, салатовым, розовым?..
Невозможно играть в благопристойность, когда вокруг – чума!
Я ушла из музея Королевы Софии побитой, опустошенной… обиженной… Горькой. Я была такой горькой, что хотела только одного – спрятаться и надолго заснуть. Не видеть и не чувствовать. Я была как ребенок, которого заставили повзрослеть в три минуты, открыв ему весь многолетний непростой опыт человеческой жизни…
И я не хотела ТАКОЙ жизни…
Какой средний человек захочет испытывать подобные ощущения?
Редкий человек…
Тогда возникает вопрос: зачем такое искусство, которое огорчает, угнетает, приводит в недоумение человека, лишает его сил и вдохновения?
Почему оно возникло – ТАКОЕ искусство? Что происходило с человечеством вообще и с отдельным его представителями, результатом чего стало признание шедевральности таких произведений искусства как «Герника», «Черный квадрат», «Предчувствие Гражданской войны» и «Большая банка супа Кэмпбелл с открывашкой» (которая по данным Риа-Новости была продана в 2010 году за 23,9 миллиона долларов!).
Когда мы пытаемся понять и вынести суждение о поступке человека – мы стараемся узнать его мотивацию, состояние его здоровья, контекст его жизни, оказываемое на него влияние обстоятельств. Тот же принцип применим и к человечеству вообще в попытке понять, каким оно было в определенный исторический период, и почему выбирало то, что выбирало, в качестве знаковых произведений искусства.
Внутреннее содержание XX века было определено несколькими глобальными процессами.
Еще в конце XIX веке научно-технический прогресс — стремительно развивающиеся науки и переложение их достижений в прикладную сферу – позволило человеку ощутить себя творцом своей судьбы. Если раньше человек был строго привязан к своему социальному слою, общественным традициям, территориально-культурным особенностям, то теперь, когда работали огромные фабрики и заводы, росли города, возникали целые корпорации с клерками и начальниками – появлялись и новые возможности. Это давало человеку с одной стороны большее чувство свободы и воодушевления, а с другой – делало ответственность за жизнь и успехи все более персонифицированной, что способствовало все большему развитию индивидуализма (каждый – сам за себя, я – главное мерило).
Прежние религиозные и общественные ценности были подвергнуты жесткой критике и даже уничтожению. Теперь основными правилами жизни становились законы экономического выживания.
Человек смог ощутить себя хозяином жизни – ездили поезда, звонили телефоны, начали летать самолеты, появились новые эффективные лекарства, казалось, что идеалистические представления о рае скоро станут реальностью здесь, на земле, и исключительно благодаря достижениям научной мысли человека.
Этот период опьянения собственными возможностями был прерван катастрофичными событиями XX века: Первой Мировой войной, революциями, Второй Мировой Войной, атомной бомбой, холодной войной и прочим, и прочим…
Набирал популярность тоталитаризм, который снимал с человека угнетавшее его бремя личной ответственности. Самыми страшными результатами этого процесса стали концентрационные лагеря.
(Хотя судить о «самом страшном», исходя из количества смертей, кажется надуманным и неправильным. Насильственная смерть каждого отдельного человека – трагедия. Страшная. А от количества смертей возрастает только чувство отчаяния и безнадежности.)
Человечество с изумлением и ужасом обнаружило, что оно – такое развивающееся и разумное – способно на жесточайшие масштабные уничтожения. Человечество посмотрелось в зеркало и увидело в своих глазах – ярость, а на руках – кровь.
Как человечество оправилось от этих событий «в комнате с выключенным светом» (когда есть возможность воплотить все свои низменные стремления и остаться неопознанным)? С помощью инстинкта выживания. Волной протеста. Революцией хиппи. Маятником, качающимся от противного… Реакцией на эти события были и те странные произведения искусства, на которые мы не знаем, для чего смотреть.
Безусловно, ко времени описываемых событий история искусства переживала собственные потрясения, одной из которых стало изобретение в первой половине XIX века фотографии, максимально точно передававшей реальность. До этого времени реализм был царицей искусства. Какими средствами теперь художник должен был соревноваться с фотоотпечатком? Своим индивидуальным видением.
Религия – отвергнута, наука – динамично развивалась, наслаивая все новые знания на то, что еще вчера было единственно незыблемым. И что тогда есть истина?
Социальные нормы и устои – рухнули в жерло военных действий и гражданских волнений. Человек как в спасительную раковину спрятался в самого себя. Я – есть, и это незыблемо.
Отсюда появилось отрицание реализма (что есть реальность?) с его формами и изобразительными методами. На сцену искусства выступили абстракционизм, футуризм, кубизм, сюрреализм, авангард. Все эти направления излагали индивидуальный взгляд человека на такую непостоянную реальность, которая одновременно пугает, открывает необыкновенные возможности, ограничивает, уничтожает и рождает заново.
Постоянной величиной оставался только человек. И он был так непостоянен…
Особенностью этого художественного века стала именно человекоцентричность искусства. Произведениями искусства становились даже простые бытовые предметы, которые человек увидел, изъял их из повседневности, наделил своими переживаниями, установил на постамент художественной галереи. Стекло, табурет, обрывок веревки, газеты… Об этом нам и рассказывает «Фонтан» Дюшана, о том, что каждая вещь, на которую упал взгляд неравнодушного человека, как будто одушевляется душой этого человека, живет той жизнью, которой он с ней поделился… Это и есть реальность – одушевляющий взгляд человека!
Произведениями искусства становились даже простые бытовые предметы, которые человек увидел, изъял их из повседневности, наделил своими переживаниями, установил на постамент художественной галереи. Стекло, табурет, обрывок веревки, газеты… Об этом нам и рассказывает «Фонтан» Дюшана, о том, что каждая вещь, на которую упал взгляд неравнодушного человека, как будто одушевляется душой этого человека, живет той жизнью, которой он с ней поделился… Это и есть реальность – одушевляющий взгляд человека!
Как писал еще в V веке до н.э. Протагор: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют» («Истина, или Опровергающие речи»).
Это была свобода, но свобода пугающая. И это испытание человечеству оказалось не под силу. Когда открывается вся картина этого переломного XX века, то становится понятным смятение и отчаянная смелость творческого человека. В контексте обвала и ужаса обычная реальность кажется неуместной.
Посмотрите на фотографию, изображающей счастливых людей того времени. Они молоды и беззаботны. Взрывы смеха! Брызги энергии!
А теперь посмотрите еще раз на эту фотографию. Эти фотографические персонажи — сотрудники концентрационного лагеря в свой выходной день. Минутах в тридцати… или в трех километрах от того места, где они же… этими же руками… глазами… губами… беспощадно и изощренно унижают и уничтожают человека…
Красивая картинка? Вообще — да. Уместная? Нет. Нет. И нет!
Правильнее было бы, если бы эти слуги смерти были треугольными и квадратными… оливкового и красного цвета… Тогда можно было бы понять, как они каждый день делали то, что делали с другими людьми…
Человечество разочаровалось в самом себе – в своих представлениях о мире, в своей морали, в своем постоянстве, в своей доброте, в своих открытиях, в своих государствах и организациях. Именно об этом нам рассказывает художник, изменяя на своих полотнах реальность в соответствии с тем, как он ощущает ее – своим тонко настроенным профессиональным чутьем.
Такой была первая половина XX века – одна утопия сменялась другой, одно разочарование – другим. Пунктир истории.
Вторая половина XX века – эпоха постмодернизма. Эпоха, которая стала сомневаться в своих сомнениях и критически оценивать свои надежды. Художники прекратили свои попытки изменить мир, они бессильно фиксировали его таким, каков он есть, но под лампой критического осмысления. Появились такие виды изобразительного искусства как абстрактный экспрессионизм, поп-арт, реди-мэйд, примитивизм, граффити, ленд-арт, нет-арт.
Начался новый взлет капиталистической идеологии. Настрадавшиеся люди хотели одного – быть сытыми, одетыми, спрятаться в своих собственных квартирках, закрыться на ключ от злых событий. Такими чаяниями формировалось поколение, давшее рождение обществу потребления. Всем хотелось простого красивого сытого счастья. И каждый готов был заплатить назначенную цену.
Такими чаяниями формировалось поколение, давшее рождение обществу потребления. Всем хотелось простого красивого сытого счастья. И каждый готов был заплатить назначенную цену.
А художник показывал убогость такой торговли своей жизнью, такого утилитарного употребления своей жизни. В этом простом уравнении «икс» равно «игрек», где икс – все, что мы хотим, все, что представляет для нас ценность, а «игрек» — средства, которые мы готовы заплатить за приобретение, все уравнивается по обе стороны. Материальное и нематериальное… Банка супа, машина, скульптура, ребенок, молодость, любовь – все покупается и продается в мире потребления. Смотрите на свои ценности! На свои яркие, отрекламированные, заглазуренные продажные ценности! Вот клич поп-арта.
Вполне естественно, что рядом с таким иронизирующим искусством должно было проявиться другое – то, которое говорит от души и без иронии. В поисках «настоящего» художники все решительнее отказывались от рационализации, от привычных форм работы, делая упор на тех переживаниях, которые владеют автором в момент творческого вдохновения (зачастую такие «переживания» достигались с помощью изменяющих сознание средств).
Пример неистового творчества – «дриппинг» Джексона Поллака, который рисовал, не касаясь кистью холста – разлетающимися каплями краски. Казалось бы, эти картины лишена смысла… Как говорил сам Поллак: «Один критик написал, что у моих картин нет ни начала, ни конца. Он не хотел сказать комплимент, но сказал. Это был превосходный комплимент». В этом и есть смысл – в отсутствии такового на «блюдечке с голубой каемочкой». Думайте, люди, думайте… Ищите свой смысл… Чувствуйте его!
 Великие творцы XX века считали неприличным рисовать «красиво». «Красивое» делалось на продажу. Для удовлетворения обывательского спроса. «Настоящее» должно убрать все лишнее, удивлять, шокировать, рвать струны человеческой души. Еще на заре века левые политические деятели заявляли о том, что искусство в ближайшем будущем перестанет быть «эстетически приятным». Оно станет тонкой иглой, вонзающейся в сердце… лезвием, царапающим кожу… тем средством, которое заставит человека посмотреть внутрь себя и увидеть нечто большее, чем сущность покупающую-продающую… Такая своеобразная болезненная интроспекция. Катарсис…
Великие творцы XX века считали неприличным рисовать «красиво». «Красивое» делалось на продажу. Для удовлетворения обывательского спроса. «Настоящее» должно убрать все лишнее, удивлять, шокировать, рвать струны человеческой души. Еще на заре века левые политические деятели заявляли о том, что искусство в ближайшем будущем перестанет быть «эстетически приятным». Оно станет тонкой иглой, вонзающейся в сердце… лезвием, царапающим кожу… тем средством, которое заставит человека посмотреть внутрь себя и увидеть нечто большее, чем сущность покупающую-продающую… Такая своеобразная болезненная интроспекция. Катарсис…
Не берусь судить об исторической спирали, о ее этапах или окончании. Вполне вероятно, что пугающие нас произведения искусства вовсе не являются эсхатологическими признаками земной истории. Возможно, они всего лишь свидетельствуют о возрасте человечества – когда оно способно видеть то, что оно видит, так, как оно это видит.
Это можно сравнить с психологическим тестированием детей, когда им предлагают нарисовать их семью, школу, любимого сказочного героя. Для профессионала такие рисунки – топографическая карта внутреннего состояния ребенка. Рисует черным и красным – страх и гнев. В центре семейного портрета бабушка – очевидно, что именно она и руководит жизнью семьи. Или так это видит ребенок…
Возвращаемся к вопросу, который был задан нами в начале статьи – зачем нам ТАКОЕ искусство?
Редко красиво. Мало понятно. Шокирующее.
Больно…
Зачем это надо мне – среднему обывателю, который радуется умильному портрету котенка в зарослях лопуха? Который на рабочем столе компьютера размещает фотографию белоснежного берега, голубого неба, бирюзового моря, наклонившейся пальмы… А на стену напротив кровати вбивает гвоздик и вешает на него картину горного пейзажа…
По моему пониманию этот вопрос имеет отношение скорее к мировоззренческим убеждениям вообще, чем непосредственно к изобразительному искусству. Этот вопрос из того надземного поля, где отмеряется необходимый человеку уровень благополучия и проблем, счастья и горя, чувств и бесчувственности. Это вопрос о том, нужна ли человеку боль…
Хочу ли я боли? Нет!
Хочу ли я быть живой? Да!
Для того чтобы быть живой, я должна чувствовать все, что происходит вокруг. И восторг, и боль… Иначе я не смогу реагировать, меняться, расти, спасать и спасаться. И если мне не хватает мужества, сознательности и мудрости смотреть и ВИДЕТЬ, то мне достаточно рассудительности, чтобы сказать «спасибо» тем художникам-«дозорным», той части общества, которая стоит на страже наших границ, всматривается в происходящее и трубит о любом нарушении, о малейшем столбе пыли, о тончайшей струйке дыма. Конечно, они могут ошибаться. И преувеличивать. И запугивать. Но они – жизненно необходимая часть нашего социального организма, наши чувствительные «рецепторы»! Без них мы заблудимся… и пропадем… и перестанем быть людьми…
Я вернулась из Мадрида в Москву, пришла на занятия. Группа взрослых людей, занимающихся осмыслением человеческого бытия. Радостно болтаем обо всем, делимся новостями. Кто-то рассказывает о прочитанном в новостях: о конфликте пожилой пенсионерки с соседом-«кавказцем», о том, как он ударил ее по лицу, сломал нос… о ее беззащитности и его ярости… и милиция не хочет заводить дело… А кто-то другой с торжеством рассказывает, что в каком-то районе Москвы местные парни приструнили «приезжих» так, что те боятся показываться теперь днем на улице… и никого не задевают… и пенсионерки спокойно ходят в магазин через сквер.
И все хорошо.
И все рады. Так им.
А я… я рада за старушек… Но мне вспоминается музей Королевы Софии. Страшные картины. Кадры кинохроники. То, чем заканчивается такая стратегия – угнетение… уничтожение одних другими. И мне страшно… Я не знаю решение проблем миграции и культурных различий, но оно не должно быть таким – это я знаю!
И спасибо за это музею Королевы Софии…